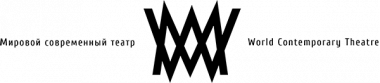
What: One of the biggest contemporary directors, the oldest constantly-playing troupe in France, and a text by Luchino Visconti. A universal gift package from the Comédie Française for those who want to see smart theatre, but don't want to take risks on experiments.
Where: Comédie Française, Paris
(English site: http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1531&id=517
When: 24 September – 13 January
Why watch:
"The Damned," director by Ivo van Hove and featuring the actors of the Comédie Française, has been hailed as the biggest event of the most recent Festival d'Avignon. The Paris troupe hadn't played in Avignon for more than twenty years, and made its triumphant return this year with a script based on Luchino Visconti's film of the same name about the rise of German fascism. Organizers confirmed that van Hove did not settle on such a topic accidentally. They nodded mysteriously: just look at what's going on in the world. In France – Marine Le Pen; in other countries – other "beloved figures," each one more unpredictable than the one before him. Tickets to the extremely topical show were sold two per customer, even though a decision was made to note that the show contained rape scenes. In short: it was mobbed. For those who couldn't make it to the Palais du Papes, "The Damned" is now playing in Richelieu's pompous classical Parisian theatre.
At the heart of the story is the self-destruction of a dynasty of steel barons, with the rise of Nazism in 1930s Germany in the background. In order to protect their interests, the Essenbeck family enters into an alliance with the regime, ostracizing in cold blood those of their employees who refuse to sympathize with the new ultra-conservatives. The young Martin, the baroness' neurotic son with pedophilic inclinations, who nevertheless manages to avoid all responsibility due to his mother's interference, wins in this battle for power. The aforementioned footnote about graphic scenes is directly connected with him – although these scenes will hardly shock those who have seen the 1969 film. There, Martin defiles his cousins, pushes a Jewish girl to suicide, and then brazenly rapes his mother. Ivo van Hove preserves these scenes, but makes them more "stylized" than in Visconti'’ film: it's scary, but you don't have to turn away.
Denunciations, betrayals, incest, and murders turn "The Damned" into a full-scale Shakespearean tragedy. The Essenbeck family's gradual destruction of one another is closely intertwined with historical reality: the shock of a series of murders gives way to news about the burning of the Reichstag in February 1933, one of the characters is “disposed of” during the Night of the Long Knives, and others are later sent to Dachau. The historical background is also present in the form of archival recordings, shown on a gigantic screen in the centre of the stage.
This screen is one of Ivo van Hove's chief scenic devices in "The Damned," and the close-up is one of his signature tricks. The operator and his camera, constantly present onstage next to the actors, pans across the actors' faces as they watch Martin slip on enormous heels and imitate Marlene Dietrich, or listen to the denunciation of the former vice president of the steel concern after he is forced to flee the country for his liberal tendencies. On the screen, horror-twisted grimaces of the murder victims periodically appear as though to try and climb out of a grave located right here, on the right half of the stage. This is indeed one of the show's truly shocking images. At the end of each act, the actors line up onstage and look the audience over in silence. The camera slowly transitions from their silhouettes into the house, and at one moment, crushed by the aggression of the fascist anthem in the background as it turns into a Rammstein song, you understand that you are watching yourself on the screen as a passive participant in the rising madness.
Insofar as we couldn't go without spoilers, we can allow ourselves one more, but of a more serious tone – and those of a more sensitive constitution are better off not Reading to the end . At the end of the show, Martin, the main villain – or better, one of the few surviving villains – sends a burst of machine gun fire into the audience, covered in the ashes of his victims. It was said that after the July terrorist attack in Nice, there was a serious discussion among the production team in Avignon as to whether or not to leave that scene in the play during the festival. In the end, the show played without changes, and remains so to this day. Scary, but tastefully so.
What:
Europe's favorite 73-year old Polish director, Krystian Lupa, accompanied per tradition by texts from the scandalous Austrian writer, Thomas Bernhard. The latter died at the end of the 80s, but managed to vilify his countrymen handily before then. Partially, in the words of his characters, owing to the fact that there are more Nazis in contemporary Austria than during Hitler's reign. A hard-hitting dose of Eastern European criticism. Good, classical theatre with text and costumes.
Where:
"Des arbres à abattre" (Woodcutters) – Odéon, Paris – from 30 November to 11 December
"Places des héros" (Heldenplatz) – La Colline, Paris – from 9 to 15 December
"Déjeuner chez WIttgenstein" (Wittgenstein’s Nephew) – Théâtre de la ville, Paris – from 13 to 18 December
Why watch:
The Krystian Lupa retrospective is part of the programme at one of the biggest French theatre festivals – the Festival d'Automne in Paris. It lasts from the beginning of September through the end of December, and it is therefore unsurprising that three whole shows by the Polish maestro were squeezed in: "Des arbres à abattre,” “Place des héros," and "Déjeuner chez Wittgenstein." They are not in order of age – "Déjeuner" was created twenty years ago. French playbills breathlessly explain that in Poland, there are repertory theatres with constant acting troupes, and thus the play is performed as long as it can be, explaining its "old age.” Instead they are listed by their dates of performance in Paris. You can delve in as follows: stroll among the trees, walk out onto the Place des héros, and set off for lunch at the Wittgensteins’. Even better - everything takes place in Vienna.
The writer, poet, and dramaturg of the second half of the 20th century Bernhard didn’t look far for his inspiration, preferring instead to describe Austrian postwar society. His description came out so critical and mean-spirited that he was accused, more or less, of insulting the Austrian people in his own homeland several times; he was summoned to court, and his books were pulled from presses. The publication of “Woodcutters” in 1984 so upset Bernhard’s famous contemporary, composer Gerhard Lampersberg – who recognized himself in one of the main characters – accused the writer of libel. In 1988, when “Heldenplatz” was released, dedicated to the 50th anniversary of Austria’s annexation by Nazi Germany, those offended had grown in number: one of the characters in the play assured that in present-day Vienna there were more Nazis than in 1938, and that its residents were and always will be anti-Semites. The overall atmosphere of his books was described by the author himself in the second title for “Woodcutters” – “An Irritation.”
The choice by the Polish director of texts written by a caustic Austrian author, who ridiculed hypocrisy and falsehood of his countrymen, should not come as a surprise. In Lupa’s homeland, recently-elected nationalists have stopped active efforts and proposed banning abortion, and in one of the country’s oldest theatres – the Teatr Polski in Wroclaw, where Lupa worked – a managing director sympathetic to the new regime was put into place. In short, it’s more or less understandable why a person would choose a play where the setting – Vienna’s Heldenplatz, Heroes’ Square – is the same place where the Viennese welcomed Hitler after the announcement of Anschluss; or why he would join together with Bernhard and decisively cut down “dead trees” – the representatives of Viennese aristocracy in the 1980s. More interesting is how Krystian Lupa stages these texts. To imagine how a play could possibly be made out of 200 pages of internal monologue, written without division into chapters or paragraphs, in Bernhard’s characteristic incantation-like style, consisting of repetitions of the same exact phrases (“I sat and thought in my deep, deep chair,” repeats the protagonist of “Woodcutters” at least a million times) is already a fine exercise for the imagination. These parts don’t bother Krystian Lupa, it seems: he already has at least ten productions based on the choleric Austrian under his belt. Moreover, it is inspiring – how else can you say it? – that the Polish maestro has an inclination for long shows (“Heldenplatz” clocks in at four hours, and “Woodcutters” at four and a half). Lupa himself traditionally designs the lighting for his shows and comes up with the scenery. A huge window, from which a professor plans to throw himself onto the square after returning from abroad, unable to handle the weight of the past; a long table, across which the Wittgenstein family trade hateful barbs; cold leather chairs on which the guests of a social function are seated, having gathered after the funeral of a suicidal actress. This could be Vienna, or Paris, or even Moscow – nothing fixes the geography of these shows in place. There are no special effects to speak of. People in costumes speak the text, either in incomprehensible Polish or, in the case of “Heldenplatz,” Lithuanian. But they speak it such that French newspapers call the Lithuanian show the masterpiece of the 70th Festival. How does it happen, when classical dramatic theatre already seems to be unnecessary? In order to understand, you have to see it.
3. Dance and So On
What:
A one-act ballet by one of the main choreographers of the 20th century, Jiří Kylián; possibly the last major group of followers of the Indian dance tradition of Akram Khan; and great defector Mikhail Baryshnikov in the role of Vaslav Nijinsky. Everything you could ask for, except for tutus.
Where:
Three Ballets by Jiří Kylián – Opéra Bastille, Paris – from 29 November through 31 December. (Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uApjnD2iZ5k)
Until the Lions, Akram Khan (United Kingdom) – Théâtre de la ville, Paris – from 5 through 17 December (Trailer: https://vimeo.com/152153308)
Letter to a Man, Robert Wilson with Mikhail Baryshnikov (USA) – Théâtre de la ville, Paris – from 15 December through 21 January
Why:
Jiří Kylián: a choreography retrospective
Czech choreographer Jiří Kylián stands together with the greatest figures in contemporary ballet – Merce Cunningham and William Forsythe. Each makes their list in their own way – Pina Bausch or Mats Ek, Anne Teresa De Keersmaeker or Trisha Brown – but the backbone of the first three names most likely won’t change. For more than twenty years, Kylián led the troupe of the Nederlands Dans Theater, and made it famous the world over. He came up with the idea to organize a “seniors group,” inviting dancers past the “critical age” for ballet – “between 40 and dead” as he himself said. It is said that Nuriev, inspired by Kylián’s ability to “see” music, once said that he has the “most golden ears.” Today the choreographer, who is just turning seventy and has already staged more than a hundred ballets, continues to work on several continents, from the US to Georgia and Uruguay. In the Opéra Bastille’s programme are three of Kylián’s short ballets, created at various points in the last fifty years of his creative career and originally for his native Dutch troupe: “Tar and Feathers,” first staged in 2006; “Bella Figure,” which premiered in 1995; and “Symphonie de psaumes,” created in 1978. To describe how they dance is silly – for everyone sees the show uniquely – and therefore let’s leave it at this: whether an enormous chorus of bodies or a duet; in classic shirts and dresses or topless with flowing crimson skirt-dresses; to the accompaniment of Stravinsky’s swells or improvisation on a piano teetering over the dancers on spider legs…you will see the whole evolution of the Czech maestro’s creativity in one evening.
Akram Khan: in the name of the ladies
The Indian-born London choreographer Akram Khan announced that from 2018 onward, he will no longer appear in his own shows, only occasionally allowing himself minor dancing roles. This may be the last chance to see his new ballet, “Until the Lions,” onstage.
Born in a family of immigrants from Bangladesh, Khan studied traditional Indian kathak dance from childhood – elements of which he would later use in his shows, turning them into a unique trait of his personal style. At the end of the 1980s, he landed a role in Peter Brook’s “Mahabharata,’ based on a traditional Indian poem, as a teenager and toured the world over for two years. Over several decades from the moment of his “trial by fire,” Khan found himself with his own troupe and almost twenty shows – among which are duets with ballet star Sylvia Guillem and actress Juliette Binoche, when she tried on the mantle of a dancer for the first time ever. Today, the choreographer is returning to the familiar text of the Mahabharata in order to focus on depictions of women. An African saying goes: “Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter.” Khan’s lions are, of course, women. At the core of his ballet is a fable about a princess who was kidnapped on her wedding day. Robbed of her dignity, she kills herself in order to return to the world after death as the goddess of war and get revenge on her assailant. Khan will tell this confusing tragic story, as is traditional, through contemporary ballet with the addition of kathak, with the help of two female dancers and four musicians. The premiere of “Until the Lions” took place in January in London. At the end of this year and the beginning of the next, the show will tour France, and you must hurry: while it, and the lions, and Akram Khan are here…
Mikhail Baryshnikov: in the world of Bob Wilson
The show “Letter to a Man” is a veritable grab bag of big names. Anyone who doesn’t get excited at the sight of the famous Russian dancer, American emigrant, and friend of Brodsky’s will perk up at the sight of the most famous director in America, Bob Wilson, in the description. Stunning lighting (Wilson, as is well-known, works on it for hours without pity for his team), actors in whiteface, movements in one plane – anyone who saw his Moscow production of “Pushkin’s Fairy Tales / Skazki Pushkina” will understand what we’re talking about immediately.
This is already Wilson and Baryshnikov’s third collaboration: before this, there was the “Video Portraits” project, where Baryshnikov wound up in the company of Johnny Depp, Lady Gaga, and other American celebrities transformed by the director, and in “The Old Woman” (based on Kharms). Now the two aging maestros have taken on Vaslav Nijinsky's diaries – the text that “Letter to a Man” is based on. Notes made by Nijinsky in 1919, when he was already in a psychiatric clinic, addressed to Sergey Diaghilev. The dancer and impresario are connected by romantic relations, and their severance likely served as the impulse for the development of Nijinsky's illness. Baryshnikov is alone onstage, explaining the unusually short runtime for Wilson – for a little more than an hour, Baryshnikov dances, grimaces, and freezes in poses. In the background fragments of Nijinsky's text are played in both Russian and English. In short, it has a certain formalism, as Wilson likes. And if anything is hard to understand, not to worry – for as the American director says, searching is the whole point of art.
I will begin my survey of the Serbian theatre season with a story about the “Dezire” festival in Subotica. “Dezire” is a festival of alternative and unconventional theatre, which has run for 8 years already. Incidentally, in those eight years, we had the chance to become acquainted with a brilliant show by the Russian company AXE, from St. Petersburg. This year, the festival was entitled “Borderline.”
Festival director and founder Andraš Urban - who is simultaneously one of the most notable creative personalities in the region - collects accomplished artists from the territory of the former Yugoslavia and the surrounding region at the festival. His explanation of this year’s festival title is as follows: We live in an area where the word “border” is especially important, even in the geographical sense. We constantly say that this is a border of sorts between the Balkans and Europe; in essence, Europe officially ends here. But at the same time, even though we are located at a crossroads and a transition, this border is getting stronger under the pressure of the migration crisis - and if we look into the future, then we see a fairly dismal picture. The festival’s name itself makes reference to the “lines” of the border – the red line which must (or must not) be crossed. But primarily for us, the word “borderline” is a term in unconventional psychology which signifies a specific emotional and mental state, connected with problems with self identification; in short, behaviors which a conventional point of view would harshly judge. For us artists, this is a call to study this state of mind, a call to reject the conventions proposed to us, and to ask ourselves questions about self-identification, about our behavior, and about our relationship to unconventional reality. In the central part of the festival, shows are presented from all kinds of different theatrical movements. The festival fundamentally works toward the education of its public, both by means of the shows themselves and through additional events within the “Dezire Academy” programme – a series of Q&As and masterclasses with the festival’s artists and participants. Through the ingenuity of the concept itself and the decisiveness of the artists’ desire to present their own works well and untraditionally, without any restrictions in their analysis of the actual state of affairs, this festival is undoubtedly one of the most competitive not just in Serbia, but in the whole region.
One of the most remarkable theatres in the country, Belgrade’s Atelje 212, celebrated its 60th year of existence with the premiere of “Children of Joy” (“Deca radosti”) by Milena Marković, directed by Snežana Trišić. Milena Marković is one of our best writers: her plays have a unique mythology and develop through dream logic. They always bring us back to a distant past, in order to open our eyes to the future. Director Snežana Trišić consciously created Milena Marković’s artistic world inside her own concept, giving it a special structure with the help of the brilliant work of the whole acting ensemble.
At the beginning of the season, we saw the premiere of Slobodan Selenić’s “Offense to the People In Two Parts” (“Ruženje naroda u dva dela''), as directed by Andraš Urban in Subotica’s National Theatre (Narodno pozorište). The action of the play takes place in a Yugoslavian jail after the Second World War, where prisoners of both opposing sides sit together. It decisively bring us into a sharp confrontation with our own flaws, with our relationship to power and the difference between public and private, and ultimately brings us to personal involvement with the victims, to empathy.
Incidentally, on the topic of victims and empathy, the season opened with a production of “Hamlet” at the Yugoslavian Drama Theatre, directed by Macedonian director Aleksandar Popovski, featuring one of our leading actors, Nebojša Glogovac, as Prince Hamlet. It was “theatre-within-the-theatre:” an eccentric Beckettian Hamlet, which carried on its shoulders a difficult period of time that it shared with the audience and all of us around.
And finally, the main event: the Bitef Festival celebrated its 50th anniversary. Bitef is unarguably the most important international festival on the territory of former Yugoslavia and the Western Balkans. It was founded by Jovan Ćirilov and Mira Trailović. In the geopolitical sense, it was unusually important for Tito’s Yugoslavia. It literally formed a brothership between the East and the West. During the Cold War, it was a place where artists arriving from the East could see the most meaningful Western productions – and vice versa. Bitef was a “meeting place” par excellence. It hosted such artists as Robert Wilson, Grotowski, Barbe, Lyubimov, Brook, and many others. It was always announced as a “festival of new theatrical tendencies,” and always lived up to the name.
Today, as it celebrates its 50th anniversary, the classical distinction between East and West of course no longer exists. The world exists on a different paradigm. And Bitef has become a festival which is open to the most varied dramatic forms. The main special programme at Bitef this year was the 28th Congress of the International Association of Theatre Critics, with the participation of 100 critics from 40 countries and all continents (except for Australia and New Zealand). As part of the Congress, there was an international conference on the subject of “Newness and Global Theatre: between Commodification and Artistic Necessity,” whose main idea inspired a study of how we can imagine the modernist conception of a “novum,” once considered adequate in performance practice in the 1960s and 1970s, in contemporary culture.
We live in a world where “postmodernism” has been left in the past, though we still see its traces. – said the festival’s artistic director, Ivan Medenica. Our concept was to use this theoretical platform of opinions to study the novum in contemporary theatre. It is no accident that the topic is formulated this way, to point out, among other things, that global theatre will never actually be global. In the field of culture, you must always take care of special cultural characteristics and uniquity. What is new for one environment can be completely otherwise for another. And I must stress that this isn’t some hegemonic Western project whose demands must all be met today.
At any rate, Bitef is gradually continuing its mission of studying new theatrical movements, while simultaneously reflecting on the contemporary sociopolitical environment.
According to this “map” of theatrical premieres and significant anniversaries celebrated since the start of the theatre season to the moment this review was written, one can follow the Serbian theatre’s path of development, first and foremost, thanks to the various methods and authentic artistic style. Our goal is to study the existing reality, and for such a study it can be necessary to turn one’s glance to the distant past, so that we can project the future from the point where we are right now.
Translated by Svetlana Luganskaya
As comparing with the results of the past years, 2016 year has positive dynamics and quite strong impulse of the theatre industry development. It might be caused by different reasons, such as, first, by economic reasons – for the last 30 years we have been observing intense leap of development, although now the industry is quite stable, we still can ascertain the growth of the theatre influence, mainly represented by variety of new theatre collectives. Secondly, the ‘upbringing of theatre public’ effect, the constant theatre audience had appeared in Shanghai and Beijing - basically, this audience was formed by the “white collars”. Thirdly, with the popularization and widespread using of Mandarin Chinese (‘putonghua’ - universal Chinese, based on northern dialects and Beijing dialect), when the sphere of usage dialects almost disappeared, Mandarin Chinese became a language for stage performances, which is a main stream in modern art process. Thereby, the phenomenon of unequal distribution of public attention between Beijing Opera and classical European drama has begun. Despite the fact that Beijing Opera is still the national and cultural heritage of China, demonstrating the brilliant masterpieces of traditional drama school and being a part of the classical theatre program, but the “phenomenon of Zhang Huoding (张火丁)» occurred before (till 2015) unlikely will happen again. As in 2016 we celebrate the 400-anniversary in the memory of Tan Xianzu (汤显祖) – an outstanding theatre master of Ming dynasty reign – the most popular and famous Shanghai theatre dynasties represented significant play “Four dreams of Lin Chuan”, which persists centuries-long dramatic tradition and gives us a “pleasure of spectating”.
As comparing with previous years, the theatre industry of China in 2016 is livelier, busier. First of all, it might be observed in the work of Beijing, Shanghai and Tianjin theatres as the representatives of the theatre process in big cities. For years, they hold the numerous variety of the theatre festivals, for example, Chinese Festival of the Creative Performances in Beijing, Nanluoguxiang Theatre Festival (Beijing), Beijing International Youth Drama Festival, Tianjin Cao Yu Festival, Shanghai International Festival of Arts, Shanghai Festival of Modern Art etc. Of course, it is necessary to note important theatre events in other places, such as Wu-Zhen International Theatre Festival, Shenzhen Biennale of Modern Theatre and others. In parallel with these events, for the memory of 400-anniversary since the death of Shakespeare were held many events. With the growth of performing English and foreign dramas in general, modern directors still can find some amazing plays written by not only foreign authors, but by Chinese classical authors as well. Within the frames of Shanghai Theatre Academy International Festival of Small Theatres was held Shakespeare International Festival, where the theatre collectives from all over the world performed 12 different plays. We’d like to pay attention on “Village” by Israel collective and “Sharper” by German collective.
It is impossible to imagine Chinese modern theatre process without active participation of Taiwanese theatre dynasties. Stan Lai (赖声川), a famous “festival” theatre director, who brought us the term of «Shanghai School of Drama”, and performed many plays on the leading stages of Shanghai, including his famous “Treasure Island”, which is theatre classic now. We can see analogous situation with Meng Jinghui (孟京辉), whose stage performances were commercially successful, for example, “The opinion of two dogs about life” – was performed almost on all main stages of China, and the theatre drama of 2015 “Mermaid from the dead waters”, which demonstrated the first Chinese experience of the “total immersion theatre”. The phenomenon of private theatres became a serious part of the theatre business in China, for instance, Kaixin Mahua (开心麻花) performed in Beijing and Shanghai hundreds of classical and modern plays, among which are “The friend you will always remember”, “Aunt of Li Cha” and others. Within the frames of Russian-Chinese theatre collaboration Bao Li (保利) troupe represented the stage performance “Office romance”, based on the famous Soviet film by Eldar Ryazanov. “Mighty theatre” also became a successful example of national drama popularization – it was impossible to buy tickets (whether in Beijing or Shanghai) on the performance “Beijing Fayuan temple”, directed by Tian Qinxin (田沁鑫). Even this one fact approves that Chinese theatre industry in 2016 was prosperous and bright.
Translated by Lena Lebedeva
For more than a year the cultural society in Berlin is in turmoil. Press is overflowed with open letters, interviews, accusations and protests. What’s happening?
Last year the authorities in charge of cultural politics in Berlin decided not to extend a contract with the artistic director of the Volksbühne Frank Castorf. Castorf, one of the most radical German theatre directors, was in charge of the famous theatre on Rosa-Luxemburg-Platz for 25 years. During this time the Volksbühne was seeking new forms of expression, some better than others, but always going against the spirit of time and the mainstream art. Their plays always had a clear political inclination, being among the first to draw public’s attention to the problems of postcolonial society, to compare neoliberal forms of government with nationalism and fascism and to explore different public conflicts taking place since 1989. The Volksbühne itself was a work of art. Why “was”?
This time it really means the end, finito. At least that’s what the harshest critics of this cultural-political decision think. Consequences became clear after a successor was appointed. Controversies break out with a new strength on 24th April 2015, when the mayor of Berlin announced the name of a new artistic director of the Volksbühne. The rumors, spreading in press and theatrical cafes, turn out to be true: in the next season 2017/2018 the office of a intendant of the Volksbühne would pass toward Chris Dercon, former director of the Museum of Modern Art in London, who, as his opponents couldn’t stress enough, had never been in charge of any theatre. Administration of the Volksbühne, still working, reacted quickly. In the place of a playbill under the roof they installed a poster with only one word: «Sold».
Critics see the appointment of the new artistic director as a sign of a great paradigm shift. Chris Dercon along with choreograph Tino Sehgal and artist Olafur Eliassson had launched some pretty interesting projects and had a productive cooperation with such artists as Christoph Schlingensief and Ai Weiwei. But he never was an artistic director in any theatre. How can a curator even start to work with the most interesting of them? What place has he among such stars as Henry Hübchen, Milan Peschel, Martin Wuttke, and great actresses such as Sophie Rois, Alexander Scheer and Kathrin Angerer? Was there some secret meaning when Tim Renner, the secretary for cultural affairs in Berlin (the second man after the burgomaster to decide the course of cultural policy), said, that we should rethink the Volksbühne?
Dercon’s opponents heated with dispute brought these questions to public’s attention. The artistic director of the respectable Berliner Ensemble Claus Paymann scorned secretary for cultural affairs Tim Renner in an open letter to Berlin’s Mayor Michael Müller. Renner, in Paymans’s opinion, was shameless enough to allow himself several outrageous statements, “starting with live transmission of opening nights to raising prices for opera and theatre tickets”. And now, what? The famous Volksbühne is to be turned into just one more hall for cultural events. “Let’s hope, that somebody would finally cry “It was all a joke”. But, as for now, nobody did. And this is just one of many examples of open criticism.
On April 19 artistic directors Joachim Lux from the Schauspielhaus Hamburg, Ulrich Khuon from the Deutsches Theater Berlin and Martin Kušej from the Residenztheater München also published their position in the open letter, but this time addressed to secretary for cultural affairs Tim Renner. “People, cities, and, thanks God, culture are always in motion. Sadly, this motion, that you as a responsible politician would like to control, leads to destruction, because there is no way back. Shouldn’t we at least discuss if it’s right that after the Schillertheater and the Volksbühne West third repertory in Berlin is going to be destroyed? Such important decision in cultural policies must dwell upon open discussion, not the thoughtless approval behind the closed doors. The transformation of the Volksbühne into a multifunctional theatric complex is a harsh turn and, in our opinion, totally unjustified, to say at least. The most shocking thing about it is that the Volksbühne isn’t some “rotten pigsty”. On the contrary: it is one of the best German national theatres of an international level. Sadly, all of it means nothing for our new secretary of cultural affairs”.
Both letters touched the problem at the heart of the discussion - the concern that Chris Dercon would turn the Volksbühne into one more multifunctional theatric complex, liquidating regular troupe, and open the free scene for touring groups. But there are more than enough such complexes in Berlin. The HAU Hebbel am Ufer, the Sophiensälen, the Berliner Festspielen are well-functioning theatric complexes, attracting international festivals and all sorts of artists with interesting projects. Despite the fact that cultural policies in Germany are a prerogative of the federal state authorities, minister of culture Monika Grütters advised against organization in Berlin any structures (cultural institutions) , that would duplicate one another.
Critics found suspicious Dercon’s statements in the daily Tagesspiegel: “Berlin, - said Dercon in one of the interviews, - have a chance to try out such form of economy, where culture plays a special role. We could learn much from Barcelona, proving that tourism could be successful. We have three different branches of tourism in Berlin: cultural, hiking and low-cost. And that is what I want to combine: city development, tourism, culture and the Volksbühne”. All that sounds a bit unconvincing in the terms of city marketing, and for those who think about a theatre as a place to oppose mechanisms of budget cuts such words were a clear betrayal. The passions were escalating from one open letter to another
On June 20th collective letter was sent to the Senate of Berlin and minister of culture Monika Grütters, signed by 180 employees and artists form the Volksbühne, including directors Christoph Marthaler, Herbert Fritsch, René Pollesch and such actors as Martin Wuttke, Kathrin Angerer and Sophie Rois. Appointed artistic director Chris Dercon attended first general meeting. The letter describes it as such: “On April 28th the general meeting informed future management of the theatre, that there will be no new artistic goals set for the Volksbühne. Conceptual line of the future structural and artistic development of the theatre was not accepted by Chris Dercon and his program director Marietta Piekenbrock. Such kinds of activities as ballet, musical theatre, digital art and cinema don’t fit in the strict repertory plan of the Volksbühne. The troupe was immediately informed, that “a dramatic theatre is no longer the cornerstone of this building”, and told such banalities as “the language of art should be diverse”. After proclamation of such simplified approach to our wok, we are worried that the artistic level set by our theatre would be turned to nonexistent and our potential as actors would grow weaker consequently. (…) Our criticism is aiming at Berlin cultural policies: the original and unique world-famous Volksbühne is being destroyed in the name of multiculturalism and diversity of forms”.
Despite the number of opponents, many sided with Berlin cultural authorities in this matter. Some artists and curators wrote their own open letter in support of Dercon, This paper, addressed to the Mayor was signed, among others, by Okwui Enwezor, director of the Haus der Kunst, architects David Chipperfield and Rem Koolhaas, choreograph Anne Teresa de Keersmaeker, film director Alexander Kluge, as well as director of Serpentine Gallery London Hans Ulrich Obrist. «Chris Dercon comes to Berlin as one of the most successful and far-sighted manager in the field of museology in the past three decades. He was able to build steady structures and has thorough knowledge of important ideas, which stimulate the evolution of culture. As a respectable figure in the world of modern art he supported many artists and earn trust and admiration of his colleagues. (…) In the light of the achievements of Herr Dercon in the last three decades, one can be sure that he is not only perfectly fit to be charge of the Volksbühne, but that you couldn’t find a better candidate”.
So far it’s being hard to establish one’s position on that matter. The program presented by Chris Dercon still seems too vague to understand which way he would lead his theatre. His crew consists from such artists as film directors Romuald Karmaker and Alexander Kluge, known for their high intellectual projects. Despite that fact, one can still remember last season of the Volksbühne under Frank Castorf’s management. In the interview to the RBB channel Castrof told about his plans “to hop from one scene to another all over Europe as some kind of theatric nomad”. His last work in the Volksbühne will be Goethe ‘s Faust II. “Yes, I’ve surrendered to this thought’s insistence, // The last word Wisdom ever has to say: //He only earns his Freedom and Existence,// Who’s forced to win them freshly every day//”.
Translated by Maria Solntseva
For many years, the main topics of discussion among Polish theatre critics and cultural figures were, as a rule, aesthetic or ideological questions: what was in the repertoire, different acting styles, and new forms of mass media. But for several years already, the problem of the theatre management has occupied the centre of attention. Recent events have shown that this problem in particular represents the greatest illness in Polish theatre, which must be healed immediately, lest it be too late.
The current model of theatrical life in Poland is most reminiscent of the German one: among official state theatres there are both city theatres (which are, it follows, supported by their cities) and regional theatres (supported by the “voivodeships,” or provinces). In addition, there are two national theatres: the National Theatre, or Teatr Narodowy, in Warsaw, and the National Stary Teatr in Krakow, which receive the biggest grants and take orders directly from the Ministry of Culture. The best of the state theatres (including Wroclaw’s Teatr Polski) were offered the chance to share their management responsibilities with the Ministry of Culture. And of course, besides these, there are private theatres.
The theatre’s management traditionally functions for a certain number of seasons (most often - five). When this term comes to an end, the theatre can either extend it or organize a competition for their replacements. The participants in this competition must meet certain conditions (higher education, work experience in management positions), as well as present a plan for the theatre’s management. The jury – which consists of representatives from local government, theatre experts, representatives from the Polish stage actors’ union (Związek Artystów Scen Polskich), and employees of the theatre – selects the best candidate via vote.
Unfortunately, this system does not always work as it should. Within the boundaries of this system, there are frequent and numerous abuses of power, against which the Polish theatre world has recently been literally striking back. Above all else, the local government often tries to assign they're friends and political supporters to advantageous managerial roles, even when in violation of competition rules. This was the case at the Aleksander Fredro Theatre in Gniezno, where the governor of the Great Polish Voivodeship did not grant the position to the candidate with the best presentation before the voting commission, but to his protégé; or, for instance, in Toruń, where the well-respected Romuald Wicza-Pokojski won the vote, but was not permitted to perform the duties of general manager in the Teatr im Horzycy. As it happens, these politicians - who don’t go to the theatre, and who most likely associate “the arts” with television sitcoms - have no desire to give away the management of theatres to dedicated theatre workers. Instead, they choose those who have earned their fame on television series, advertisements, and game shows – celebrities, in short, who can provide photo opportunities at galas. Such a candidate was nearly forced into the position of managing director of the Teatr Nowy, in Łódź.
In this theatre season, the most exasperating of all is the uproar in the Teatr Polski in Wrocław, which has been ongoing since August. Over a period of more than ten years, this theatre was the best in the country. It received awards from all over the world, and leading Polish directors worked there: among them, Krystian Lupa (who called the theatre his home), Jan Klata, Monica Strzępka, Michał Zadara, Barbara Wysocka, and Krzysztof Garbaczewski. The theatre’s best shows were invited to festivals around the world, from Avignon and the Festivale d’Automne in Paris to the Seoul Performing Arts Festival and Festival/Tokyo. Wrocław’s Teatr Polski, under managing director Krzysztof Mieszkowski, had a unique reputation: the bravery and ambition of its best directors (such as the masterful Lupa and his most talented students), along with an excellent acting company, allowed the classics to be reinterpreted anew and new texts to be presented, however rarely. Moreover, their work was always laden with a broad educational mission – from shows and creative workshops for children and teenagers to debates with invited guests.
The prologue to recent events was November 2015, when the new ultra-conservative Minister of Culture, Piotr Gliński, opposed the premiere of “Der Tod und das Mädchen” (Princess Dramas: The Death and the Maiden), based on a text by Elfriede Jelinek and directed by young director Ewelina Marciniak. That time, the freedom of art won out, but Gliński got his revenge. When Krzysztof Mieszkowski’s time was up as managing director, instead of allowing an extension of his term - which he had clearly earned, as it was during his tenure that the theatre became one of the best in the country - the minister and the local government announced a concourse to fill his place. From six candidates, they chose one who had for some time now made no secret of his desire to occupy “some sort of” managerial position: Cezary Morawski, an unsuccessful actor whose chief achievement was a much-ridiculed role in a soap opera, in addition to tours to resort towns to entertain audiences with amateurish farces. In addition, he is famous as the onetime treasurer of the Polish stage actors’ union, in which capacity he lost the organization millions of euro with ill-advised investments.
Regardless of his clearly mediocre achievements and total lack of the competence to run one of the biggest and most important stages in Poland, along with his compromising legal history, the government of Lower Silesia nevertheless pushed Morawski’s candidacy, with the support of Piotr Gliński himself. Undoubtedly, the actor’s conservative views played a role here - he went so far as to declare in his management plan that the theatre, which had til then occupied a relatively leftist political position, would stage a work by John Paul II), along with his personal friendship with politicians in both the voivodeship and the Ministry of Culture. The fact that Krystian Lupa, a sharp critic of Morawski’s, was invited to the commission did not have any influence on the results– Lupa alone resisted the entire group of politicians and associated figures, who immediately selected and appointed Morawski without allowing so much as a discussion.
The theatre’s troupe, together with actors and critics from all over Poland and Wrocław’s owntheatre going public, protested this appointment from the very beginning. The troupe, who had supported a different candidate, demanded that Morawski step down, but he had no intention to give away his hard-won power; instead, he has punished uncooperative actors (to the point of firing them) and terrorizing audiences. But the actors decided to fight for their theatre – or, should that prove impossible, for their own honor. Krystian Lupa interrupted rehearsals for his adaptation of Kafka’s “The Trial,” planned for this fall. Other directors have refused to work with Morawski: several months after the beginning of the season, the theatre is still not holding any rehearsals, and no official premiere announcements have been made. The theatre’s best actors are leaving, and the majority have already been welcomed by other theatres in Warsaw and Krakow: among them are Ewa Skibińska, Piotr Skiba, Bartosz Porczyk, Małgorzata Gorol, and Marcin Pempus. After nearly every performance of the shows left over from the old repertoire, audiences protest with signs and loud cheers, providing clear evidence that just such a complicated and ambitious theatre is what people need - and moreover, that they have absolutely no desire to see conservative and academic (or primitively entertaining) shows in its place.
In this entire story, the politicians’ impudence and the managing director’s stubbornness are, of course, most shocking if all;, but at the same time, equally worthy of respect is the choice made by the actors who would rather lose their work and leave the city where many of them have lived since childhood than support the current state of things. Simultaneously, this whole scandal has opened our eyes to the fact that the organization of theatrical life in Poland is in a sad state, and in desperate need of reform. If such reformscan be accomplished, it will be the only positive side effect of the current events in Wrocław.
Translated by Andrew Freeburg
Новый 96-й сезон Вахтанговский театр открывает премьерой по Мольеру. Спектакль «Мнимый больной» поставил французский режиссер румынского происхождения Сильвиу Пуркарете. Пуркарете впервые ставит на московской сцене, но уже не первый раз работает с русскими актерами – в прошлом году режиссер выпустил «Сон в летнюю ночь» в петербургском театре «Балтийский дом». Европейскую известность ему принесли интерпретации произведений мировой классики – от Эсхила до Ионеско, а его эстетика запоминается сразу – готическая мрачность коснулась теперь и самой веселой комедии Мольера.
Фарсовую пьесу об ипохондрике, донимающем себя мнимыми болезнями, которыми он мучает и весь дом, пожелав даже дочь насильно выдать замуж за врача, режиссер вживляет в биографическую канву автора – историю жизни и смерти знаменитого французского комедиографа. «Мнимый больной» стал последней комедией, которую Жан-Батист Поклен написал, будучи смертельно больным, в ней же со своей труппой сыграл последнюю роль – Аргана. Он умер в ночь после спектакля, как писал Булгаков в «Жизни господина де Мольера», захлебываясь кровью. И ни один из докторов к нему не пришел. Не успели или, как романизирует Булгаков, не захотели – после такой-то пьесы-памфлета на докторов-шарлатанов. Именно эту трагикомедию жизни режиссер делает точкой отсчета, ей посвящен броский монолог в зал Сергея Маковецкого, который в роли Аргона словно бросает драматургу-пересмешнику сбывшееся проклятье. В его сценах гениально все – то, как он пластически застывает, притворяясь мертвецом, как выходит из вымышленного образа, чтобы говорить от «своего» лица. Маковецкий играет, как и всегда, радостно, взахлеб. Его Аргон – капризный мальчишка, он с удовольствием играет в свою собственную игру и с рвением – в чужие. Но, выходя за границы комедии, Маковецкий снимает «маску» и остается в монументальном «портрете» то ли короля, то ли лицедея на пороге конца.
Гулкая сцена, будто опустевшая после спектакля, завалена грудой стульев. Сверху свешивается проетый временем кроваво-бархатный занавес (сценография Драгоша Бухаджиара). Актер усталой поступью выходит из светящего проема закулисья, снимает с головы королевские перья, идет к гримировальному столику, берет текст и будто примеривается к следующей роли: «Три и два – пять. «Сверх того, легонький клистирчик, чтобы освежить утробу вашей милости». С этой минуты зазвенит, клоунски замельтешит вокруг комедия. Но сквозь мольеровский сюжет проступит новый. Пуркарете ставит «Мнимого больного» как историю о театре, причем не в атмосфере праздника, заглядывая в шумное яркое закулисье, а как игру Фатума. Театр, как зеркало Судьбы, откуда, играя смерть, нельзя уйти живым.
Спектакль раздвигает границы одного жанра, хотя классические фарсовые штучки здесь удаются на славу. Вот служанка Туанетта – Ольга Тумайкина, которая полноправно в спектакле становится одним из главных действующих лиц, – надевает мясистый нос, огромные очки и несуразные ботинки (однако никак не может упрятать пышную грудь), притворяется доктором, чтобы проучить своего доверчивого хозяина. Вот аптекарь Флеран (Сергей Пинегин) облачается в химзащитный костюм и приволакивает 10-литровую канистру с клизмой, чтобы устроить «больному» освежающее промывание. Героев, несмотря на психологическую игру вахтанговцев, режиссер сближает с масками. На это намекает выбеленность лиц и заостренность образов. Развратная жена (Мария Волкова), дочь-нимфетка (Мария Бердинских), страстный романтик, ее жених (как всегда, безупречный Сергей Епишев).
Юмор начинается с деталей, вплоть до мельчайших контрастов, того, как подобраны между собой актеры – толстый и тонкий, высокий и низкий. А эстетский черный юмор – с киношной стилистики отрицательных персонажей – врачи, отец и сын Диареусы (Михаил Васьков и Евгений Косырев), пришедшие свататься, – мертвецы, сверкающие накладными лысинами, посланцы с того света. Но и тут актерам оставлено пространство для игры. Невероятно фактурный Евгений Косырев чуть заметно подергивает оттопыренным мизинчиком в застылой позе ходячего трупа, и зрителя прямо переворачивает от смеха и отвращения одновременно. Но градус драматического напряжения так высок уже от начала спектакля, что многие задуманные режиссером комедийные гэги словно повисают в воздухе, как если бы на поминках рассказывали смешные случаи из жизни покойника, но всем было неловко над ними смеяться.
Спектакль вслед за мольеровской пьесой, вбирающей в себя истоки французского балагана, итальянской дель-арте, пасторали, – раскладывается на интермедии, как на картинки из театральных эпох. Они не только не купируются, но и задают тон всей постановке. Маковецкий выходит на подмостки в образе хитрого горбуна Пульчинеллы, цыгане, приглашенные в дом для увеселения, оказываются танцовщицами американского мюзик-холла, а финальный выход хора – пышным придворным балом времен «короля-солнца». Над всем этим властвует холеный антрепренер – им в спектакле Пуркарете стал рациональный брат Аргана (актер «Современника» Сергей Юшкевич). Это еще одна сторона механизма под названием «театр». Именно он прикажет Мольеру–Маковецкому выйти в роль, ставшую последней. Тот вновь появится в рыжем парике, сопровождаемый хором, и зальет камзол алой кровью, хлещущей из горла.
Это спектакль-эпитафия. И, пожалуй, сегодня сложно выдумать более точный взгляд на комедию Мольера. Пуркарете, как золото на зуб, «проверяет» ее событиями подлинными, жизненными, где благополучного финала, увы, не существует.
«Кафка» Кирилла Серебренникова и драматурга Валерия Печейкина — последняя в сезоне премьера «Гоголь-центра». Байопик и бестиарий. Франц Кафка (Семен Штейнберг) — сдержанный кандидат прав Пражского университета, неудачливый сын властного отца-галантерейщика, беспомощный брат энергично-развязных девиц Элли и Валли, бессловесный 30-летний недоросль, которого жаждет женить кипучая матушка. Почти Грегор Замза — он уводит голову в плечи, обрастает хитиновым панцирем бесстрастия. Жуку тут легче забиться в щель, чем сыну.
Но этому же бледному неудачнику почтительный биограф Отто Пик (Один Байрон) говорит: «В конце концов — все это было показано только для вас». Мир на сцене — с корректностью котелков и пулеметным треском арифмометров, с огненными письменами неона на заднике, с черно-белой кинохроникой двух мировых войн, с поиском неведомых зверей и преисподними плясками персонажа Одрарака (Никита Кукушкин), крепко сбитого господина с армейской выправкой и стальными челюстями вампира, — мир 1910—1920-х в спектакле создан из воображения Кафки.
Показан именно ему как черно-белый немой стилистический эксперимент Творца, который должен отозваться в «Процессе», «Замке», дневниках и письмах. Так задумано свыше.
Самые реальные биографические сцены перерастают в абсурд. Кафка «возвращает письма» своей несостоявшейся невесте Фелиции Бауэр (Светлана Мамрешева), обкладывая даму конвертами, засовывая их за уши невесте, за пояс, в волосы, в карманы, в декольте, — пока ярко накрашенная фрейлейн эпохи фокстрота не превращается в кубистического монстра, продолжающего упрекать: «Тебе дано счастье быть мужчиной. Что ты с ним сделал?»
Тут фантасмагоричны все: господа из страхового общества, медленно проходящие перед глазами Кафки пражские проститутки, пловцы в городском бассейне, стоящие под душем в противогазах (это поколение будет вот-вот призвано на Первую мировую), русский солдат Иван, с мистическим бесстрастием играющий на пиле, графоманы, хасиды, семейные пары, адвокаты.
И сквозная, как история Гретхен в «Фаусте», история детоубийцы Марии Абрахам: не в силах прокормить девятимесячную дочь и не в силах получить страховку за погибшего в шахте мужа — Мария душит ребенка. Тяжкий ход бюрократии тому виной? Или выплеск тьмы внутри Марии?
Нет ответа. Но это главный вопрос Кафки. Он предчувствует ужас будущего (или природы человека, теряющей путы и опоры?). Мелкий, но пронырливый бестиарий фантомов ест его мозг. И воплощается в мизансценах спектакля, в очень целостном и последовательном кошмаре.
Ближе к финалу зрителей просят извлечь из-под кресел конверты. В них — страница Кафки: «Что я могу противопоставить тебе? Жалкий лист бумаги? … Что изменится, если я покрою его своими каракулями? Пока я их пишу, другая Мария Абрахам, доведенная до отчаяния, снимает с ноги подвязку. И душит ей свою дочь. А я ничего не могу сделать.
Перед безумием мира я ставлю свое личное безумие. Тогда мы — я и мир — начинаем говорить на одном языке. В эту минуту я похож на человека, который остался один в опустевшей деревне, рядом с пробудившимся вулканом. Приближается поток огненной лавы, а я стою, держа перед собой лист бумаги…»
Огонь гудит под землей. Сгорит лавка отца. Все три сестры Кафки погибнут в газовой камере. Жуть предвидения, съевшего этого человека, воплотится в XX веке тысячекратно. Но рукописи (которые он, как известно, просил сжечь перед смертью в 1924 году) — рукописи уцелеют.
«Гоголь-центр» выпустил очень целостный и спокойный спектакль, сотканный из невесомой плоти кошмаров, из осколков прозы и дневников. Очень ансамблевый спектакль: Семен Штейнберг, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Рита Крон, Один Байрон и их коллеги играют изощренно, пластично, точно — Серебренников вырастил труппу своих актеров, она вошла в силу.
«Кафка» — самый сдержанный, стилистически целостный, лишенный эпатажа (не до него: тут речь о важных вещах!) и, возможно, лучший из спектаклей Серебренникова в «Гоголь-центре».
В следующем сезоне на сцену должен выйти другой байопик — о П.И. Чайковском.
Для Райкина и учеников его Высшей школы сценических искусств Мольер не только автор бессмертных комедий. Мольер здесь – культурный код, открывающий понимание и commedia dell’arte, и Гольдони. Мольер – это провокация к освоению молодыми актерами высочайшей техники комедии положений и характеров.
Казалось бы, три актера – еще студенты – играют в огромном зале «Планета КВН», по сути, учебный спектакль, в котором молодежь осваивает технику лицедейства. Однако в контексте современного театра такой спектакль, как «Лекарь поневоле», оказывается чем-то большим, нежели детские радости и личные рекорды театральной школы.
Константин Райкин с удивительным и завидным упрямством настаивает на том, что можно хохотать, смеяться и на территории культуры, а также еще и очаровываться театром, обаянием молодых актеров, самозабвенно прыгнувших очертя голову, по велению мастера, в водопад с опасными каскадами, именуемый комедией Мольера.
Художественный руководитель театра «Сатирикон» на удивление верен своему символу веры в предназначении театра, один из постулатов которого – внятность высказывания, ясный смысл. Не оттого ли долгие годы в этом театре есть публика?
Как-то непривычно стало выходить после спектакля с улыбкой на лице. Не делают аборта юной Люсинде, а могли бы, и милиционеры не избивают Сганареля, а так и просится прием, когда Лука и Валер «колошматят» Сганареля, заставляя его стать тем самым лекарем, что поневоле. Нет видео на заднике, а между тем молодежи в зале полно, смеется, аплодирует и даже встает в финале, чтобы выразить особое почтение театру.
Константин Райкин – режиссер спектакля, он же педагог, который помогает освоить тяжелейшее ремесло своим подопечным. Текст Мольера сжат до 70 минут под задачу: два актера из трех играют почти всех действующих лиц комедии. Одна студентка играет и жену Сганареля, Мартину, и кормилицу Жаклину, и заболевшую дочь Жеронта, Люсинду, и даже Перрена, сына крестьянина Тибо. Другой студент взвалил на себя все мужские роли: участливого соседа Сганареля, Робера, мужа Жаклин, Луку, Жеронта, отца Люсинды, которую хочет выдать замуж против ее воли за богатого жениха, того самого влюбленного в дочь хозяина Леандра, а еще простодушного крестьянина Тибо. И только Сганареля играет один актер.
В какой-то момент кажется, что пред тобой большая труппа, а не три студента. Молниеносно переодеваются, преображаются, наделяют свои характеры пластическим разнообразием. Вот только что на сцену выбегала Люсинда, похожая на пуделя, в столь кудрявом и объемном парике, что казалось, ее фигурку неуклюже пристегнули к голове. Она скрывается за ширмой, и через несколько секунд появляется кормилица Жаклина с огромным накладным бюстом (художник по костюмам – Мария Данилова). Такая красота не случайно потрясла Сганареля. Актриса (в спектакле в очередь играют Розалия Каюмова, Ульяна Лисицына, Елена Голякова) снова скрывается за ширмами, чтобы предстать Мартиной, женой Сганареля, измученной заботами о хозяйстве, стиркой, безденежьем и пропойцей-мужем.
Даниил Пугаёв и Ярослав Медведев (в очередь) играют горбатого старца, с гомерическим трудом волочащим себя по сцене, то самодовольного «пузатого» господина в богато расшитом камзоле, то красавца Леандра, шевалье, то крестьянин Тибо в войлочном пальто с огромными заплатами. Все эти маски, как калейдоскоп, мелькают перед нами в энергичном ритме, темпераментно, весело и легко.
Сганарель (Константин Новичков, в другом составе – Илья Рогов) с любопытством осваивает работу лекаря. Актер не столько перевоплощается из собирателя хвороста в доктора, для весомости увешивая себя нехитрыми атрибутами врачебного ремесла (грелка с клистирной трубкой, смотровое зеркало на лбу), сколько играет актера, играющего в игру со зрителем.
Перед нами компания отчаянных лицедеев, дело которых – театр. Не случайно в самом начале выходят три актера, словно пришли на занятия по сценическому движению или танцу: в черных трико. В этом прологе они встают в свой магический круг, который подарит им энергию, подогреет чувство к партнеру, чтобы куролесить на сцене. Здесь все можно: бегать, кувыркаться, ходить на руках и, если не по потолку, то по стенам уж точно.
Пролог с эпилогом режиссер срифмует. В финале откроется ширма, что в глубине сцены, и мы увидим закулисье. Нам разоблачат скрытую до того технику преображения: в диком темпе студенты, которые будут играть завтра эти роли для публики, сегодня лихо и азартно работают как невидимая служба костюмеров, переодевают своих товарищей, помогают их перевоплощению.
Сцена, кулисы, стены – все идет в дело, именуемое театром.
Когда облетела весть, что Могучий взялся за «Грозу» замоскворецкого Шекспира, то сердце съежилось. Ох, перейдет ли он сей грозовой перевал, не сгустятся ли снова тучи. Где Островский и где Могучий – это, прямо сажем, не Кама с Волгой. Однако вопреки всем тревогам случилось событие.
Конечно, сразу вас ошарашивает, что город Калинов упакован у Могучего в палехскую шкатулку. В свое время Кугель шутил над мейерхольдовской «Грозой» в декорациях мирискусника Александра Головина в Александринке, что, мол, это же царство берендеев, а не Калинов.
А вот у Могучего, несмотря на то что пространство дышит почти сувенирной красотой, нет ни берендеев, ни китча а-ля рюс. Палех есть, а сувениров нет? Да быть того не может!
Обрушивается на зрителя и другая неожиданность. Здесь нет бытовой речи, тут прозаический текст Островского переведен в поэтический. Как не вспомнить Аполлона Григорьева, который называл драматурга поэтом русской жизни супротив Николаю Добролюбову.
Могучий со своими коллегами, прежде всего с композитором Александром Маноцковым, а также с музыкальным руководителем театра Анной Вишняковой, шлифовавали слово под задачу: добавили этники – волжского говора, отчасти заимствованного, отчасти придуманного, который не позволил зазерниться в спектакле сувенирности. Катерина говорит здесь не как выпускница театрального вуза с поставленной сценической речью, а как волжанка, смягчая окончание: «почему люди не летаютЬ, как птицы» или, заменяя на южный лад звук «в» на «у»: «Я Усе одна» и т.п.
Куда ни шло, когда Катерина изъясняется не как все, понятно. Не от мира сего и Кулигин (Анатолий Петров), он тоже может стихами: Ломоносова любит, а Дикой, Кабаниха, Кудряш – эти-то с чего заголосили рифмой?
Оттого, что Могучий ставит предание старины глубокой. Драма «Гроза» вставляется в другой формат – страшных сказок, которых в нашем фольклоре немало. Дикой (Дмитрий Воробьев/Сергей Лосев) здесь – сумасбродный царь с седой бородой, которого сажают на трон и то и дело выкатывают в центр сцены. Он «правит миром праведным». Кабаниха (Марина Игнатова) – злая хозяйка калиновского царства, и хоть и значится купчихой, но по осанке боярыня боярыней, увенчанная черным кокошником. Кудряш (Василий Реутов) не только лих на девок, кажется, ему ничего не стоит променять мирную жизнь на разбой. Из-под картуза вьются непокорные черные кудри, глаз горит. Когда грозит, что может «уважить», веришь –- лучше не попадать под его горячую руку.
Текст Островского разложен на причеты, плачи, на рифмованные диалоги. Речи актеров почти все время аккомпанирует бас-барабан (Николай Рыбаков), который не только организует ритм, но и нагнетает предгрозовой звук. Вот-вот грянет и разразится гроза, которой так боится Катерина и совсем не боится Кулигин, потому как «електричество».
Все выходы Кабанихи – театр ритуала. Марина Игнатова не сделает ни одного лишнего движения. Сколько уж раз, снаряжая Тихона (Алексей Винников) в дорогу, она пилила сына. Тиша выучил все подробности ее речитатива, весь церемониал угождения маменьке, но на этот раз что-то дрогнуло в нем. Жена стоит рядом. Тихон стонет, плачет, но покорно исполняет требования, усиливая только одну интонацию: скорей бы в дорогу да загулять без оглядки с полной чарочкой на свободе.
Катерину Кабанову одну оденут в красное платье и полукруглый красный кокошник – все остальные жители Калинова кто в чем, но все в черном. Палехская техника использует роспись на черном лаке: в главном же сюжете присутствует акцент непременно с красным. Художник Вера Мартынова добавит тревожные штрихи красного и в безмятежные нарисованные облака, и на сцене то и дело будут из паровой машинки выпускать клубы то белого, то красного пара в черноту сцены.
В первом акте Катерина (Виктория Артюхова) пока так много плачет, что как-то слабо веришь ее собственным словам о характере, сопли да нюни, но вот с того момента, когда косы ее расплетают и она преображается в красавицу – чем не модель для Данте Габриэля Россетти? – актриса начинает говорить человеческим языком. Девочка попала в злое царство, в котором не умеют любить, не умеют прощать, именно это скажет Кулигин, когда тело Катерины достанут из Волги. Тут много говорят о Боге, но жрут друг друга поедом. Возможно, Кулигин в этом спектакле не случайно занимает место протагониста города Калинова, самодеятельный ученый, нелепый мечтатель, разъезжающий на самокате, мечтающий о рerpetuum mobile и о городских часах на площади.
Бориса, который в ремарке Островского один одет не по-русски, играет приглашенный из труппы Михайловского театра Александр Кузнецов. И если все осваивают текст в ритмах славянского фольклора, то он – посланец итальянской оперы, баритон со всеми повадками другого театрального бытия. Как бы солист La Scala попал в казачий хор. Он превращает текст драматурга в оперную партию. Могучий на репетициях взывал, чтобы актер воображал себя Парисом.
Однако такой театральный прием не умаляет драматизма расставания, расстроенной судьбы одного и оборванной жизни несчастной девочки, которая осознает предельно ясно, что вне любви она жить не станет. Барыня (Ируте Венгалите), совсем не сумасшедшая, а пережившая в молодости драму Катерины, с самого начала ее жалеет и знает финал этой несчастливой сказки.
Гроза и молнии, разрезающие черные небеса, в спектакле не принесут очищения Калинову. Катерина закроет нарядный палехский занавес, за которым останется Тихон с вопросом: как и зачем ему жить?
Премьерная «Васса» в Малом театре поставлена в академических традициях, на первый план выдвинута не режиссерская фантазия, а актерские работы. Режиссер Владимир Бейлис выбрал первую редакцию пьесы Горького – ту, в которой нет ни слова о классовом конфликте и Вассе, как символе краха русского капитализма. Перед зрителем душераздирающая семейная драма, в которой нет ни правых, ни виноватых.
Главное достоинство новой «Вассы» - артисты. Такого уровня ансамблевой игры театралы не наблюдали до обидного давно. Все герои на сцене равны, и в трагичном финале виноваты тоже все. Несгибаемая Васса – условная главная героиня. Людмила Титова играет ее страдалицей.
Несмотря на пугающую, уродующую всякую душу изнанку семейного «бизнеса», она, прежде всего, несчастливая женщина. Красавица с прямой спиной (ох уж эта фирменная стать актрис Малого театра), с высокой прической, в кружевном платье цвета лаванды , залегшими черными тенями под глазами. Она – мать, уверенная, что все самые страшные грехи во имя детей ей простятся: «Богородица поймет». Одна из самых ярких сцен: Васса смотрит на собравшуюся за столом семью со стороны (повод – приезд старшей дочери Анны), а вместо произносимых ими слов слышит детское щебетание.
Оба ее сына – Павел и Семен, по ее собственному признанию, «не удались». Один – озлобленный уродец, второй – глупый как пробка сладострастник. Артисты Станислав Сошников и Алексей Коновалов безукоризненно играют оба характера. Сколько душевных подробностей, актерского куража.
Фантастически хороша и Ольга Жевакина, играющая лицемерную жену Семена Наташу. Каждое ее появление на сцене – маленький бенефис. Традиционно ярок Александр Вершинин (разудалый Прохор Железнов). Артистам Малого удалось оправдать горьковских персонажей, заставить зрителя им сопереживать. Семья Вассы – это клубок змей, которые кусают сами себя. Они пугающе узнаваемы, как и ситуация кровавой дележки наследства. Невежественные, нелюбимые, не умеющие любить сами, герои и героини - совсем не исчадия ада. Их трагедия в том, что они не знают, как по-другому. За них не страшно, их жаль.
Сценография Эдуарда Кочергина – полноправный участник действия. Деревянный дом с несуществующей крышей (над головами большого и несчастливого семейства – пробоина). Несколько голубей на балках, затопленный камин, кабинет Вассы, стол с самоваром и скатертью. Стены сужаются где-то в глубине сцены, там же – целый иконостас, зажженные свечи. Во время действия к нему никто не приближается, в финале героиня возле него умирает. Осознав, что никогда и нигде не будет ей оправдания Васса, вскинув руки, бежит к иконам, оступаясь, падает замертво. Решив финал в морализаторском ключе, Бейлис, тем не менее, счастливым образом избежал пафоса. Его спектакль – не о том, что зло наказуемо. Он о том, как страшно прожить жизнь, так об этом и не узнав.
«Князь» – так называется новый спектакль Константина Богомолова в театре «Ленком». Это третий столичный театр, после «Табакерки» и МХТ имени А.П. Чехова, который не скрывает своей заинтересованности в продолжении сотрудничества с режиссером. В прошлом сезоне Богомолов выпустил здесь «Бориса Годунова» по Пушкину, в новом спектакле он продолжает работать с классикой: «Князь» – написано в афише, – это «опыт прочтения романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Все интересующиеся театром уже успели обсудить новость, что за неделю до премьеры режиссер снял с роли народного артиста России Александра Сирина (в «Годунове» он играет Шуйского) и сам теперь играет князя Тьмышкина.
Да, вместо Мышкина у Богомолова князь Тьмышкин и благодаря стремительно распространяющимся у нас интересным театральным подробностям (прямо скажем, очень часто – не без участия самого Богомолова) многие другие скандальные детали спектакля тоже уже известны. Ну, например, то, что во втором действии титры, которые в «Князе» появляются на торцевой стене (сценография Ларисы Ломакиной), сообщают публике, что «Настасья Филипповна (в титрах фигурирует под именем, которое ей дал Достоевский. – «НГ») пишет письмо кровью». Следующий титр: «Менструальной». Или – что в том же втором действии один из следующих титров сообщает, что «Папа и мама уходят потрахаться». Это все уже известно. Но это – при известной поляризации мнений – почти все «ужасное», что есть в спектакле. После выступления известного журналиста Александра Минкина против премьеры «Князя» в жанре «Так жить нельзя» ждешь чего-то совсем уже из ряда вон выходящего. А встречаешься с, в общем, местами очень даже интересным диалогом с романом Достоевского. Спектакль кончается – в сравнении с другими более или менее недавними богомоловскими театральными сочинениями – довольно быстро, через три часа пять минут, а мысли о нем поселяются надолго, и день, и два спустя возвращаешься к ним, и к спектаклю, и к тому, как существует в роли Мышкина-Тьмышкина Богомолов.
Хотя все приметы его стиля и приемы «разделки» классической «туши» вроде бы на своих местах: Богомолов в этом смысле приходит с инструментарием вчерашнего дня, как классический постмодернист и деконструктор, так что в новом спектакле про идиота все начинается с «Ла-ла-ла…» и «Кабы не было зимы…» из мультфильма про Простоквашино и продолжается другими известными шлягерами, преимущественно про детство и подростковый возраст и чувства, чтением стихов Степана Щипачева «Любовью дорожить умейте», по которым когда-то в школе предлагали писать сочинения, а может, и сейчас еще предлагают. Детскую тему сам режиссер назвал среди самых важных для него в этой истории, и, зная роман «Идиот», соглашаешься с Богомоловым: имеет право, Достоевского тема насилия над детьми волновала и в прозе, и в жизни тоже.
Богомолов – известно – из поколения пересмешников, что тоже входит в набор инструментов постмодерниста. Поэтому Мышкин-Тьмышкин у него прибывает в Россию из Трансильвании, как положено скорее не Мышкину, а пострадавшему от встречи с Дракулой, или тому, кому эта встреча была чрезвычайно интересна, кого мучило опасное любопытство, как слоненка из сказки Киплинга «Отчего у слона длинный хобот». Поэтому первый диалог Князя с Фердыщенко строится как прохождение прибывшим из-за границы таможенных процедур, причем герой Богомолова является в Россию, а затем и в дом к генералу (Александр Збруев) с полиэтиленовым черным пакетиком. Это смешно, но, в общем, с поправкой на наше время – совершенно в духе Мышкина из романа «Идиот». Но уж точно – по Богомолову – нельзя здесь говорить о чем-то всерьез, вслух нельзя, это точно. Поэтому, когда князь начинает свою «байду» про то, что любит не любовью, а жалостью, Настасья Филипповна его мгновенно перебивает: «Фигня какая-то», употребляя, впрочем, еще более эмоционально насыщенное слово. А Виктор Вержбицкий, умело балансируя на тонкой грани между прозаической реальностью и безграничной фантазией постановщика, играет отсутствующего в известных вариантах романа депутата Ашенбаха, который в Таиланде встречает свою последнюю любовь…
Интереснее другое. Интонация, которую, кстати, трудно (пока что) представить в устах другого исполнителя, но, судя по всему, очень важная для Богомолова. Он говорит скороговоркой огромные периоды местами вязкого, местами сумбурного текста, максимально лишая его интонаций, однако же интонации в какой-то момент проступают, ухо начинает их улавливать, точно это интонации поблекшие, но не выцветшие окончательно. Богомолов–Тьмышкин говорит, разумеется, голосом, усиленным микрофоном (как и все), волосы – взъерошены, в глаза собеседнику он не глядит и старается ни с кем не встретиться взглядом. Когда звучит очередная песня – про прекрасное далеко, – князя начинает корежить и плющить, он здесь, можно сказать, становится индикатором «уровня» или, если угодно, самого факта существования детского насилия, что для всех остальных – обыденность, рутина работы в детской комнате милиции. Фердыщенко (Иван Агапов) здесь «защищает мир от детей», в то время как впору детей защищать от него, равно и от многих других персонажей, впрочем, в программке никак не определенных. Да, это важное обстоятельство спектакля: в программке актеры просто перечислены в столбик, нигде нет никакого указания или привязки, что этот – такой-то, а эта – Аглая или Настасья Филипповна. Эти связи, конечно, можно выстроить из последовательности титров и монологов, которые произносит, скажем, Елена Шанина (судя по всему, Аглая) или Александра Виноградова (скорее всего Настасья Филипповна), но вслух, со всей определенностью никто никого не называет, тем более чтобы – раз и навсегда.
Спектакль – здесь режиссер следует за автором – это цепочка монологов, разбитых или поддержанных песнями из популярного советского набора «счастливого детства», и сегодня трогающими душу, и радующими, и печалящими. Несколько монологов – и час пролетает. При этом в память западает и Шанина, и Збруев – его монолог о том, как избил Настасью Филипповну, как любил и убил, тоже забыть невозможно. Никаких «усилителей вкуса» и «раскраски игры», но каждое слово отпечатывается, как шаги Командора.
Фантазия постановщика, как всегда, не знает границ, причем границы привычно он отодвигает в одну и ту же сторону (обычно об этом говорят – ниже пояса; добавим – но выше колен), и, в общем, не желая даже никак обидеть режиссера можно сказать, что каждый его спектакль – это опыты графомании на ту или другую тему, поскольку к формальному совершенству, так думается, стремления нет, а главное желание – сказать все, что наболело по поводу и на тему. Поэтому, кстати, и появляется возможность сократить уже вроде бы готовый спектакль на – так говорят видевшие первые показы – полчаса. Так что сейчас почти каждая следующая рецензия откликается на спектакль, который не равен предыдущему ни по времени, ни – в связи с сокращениями! – по содержанию.
…Ремонт в пустом пространстве: леса на трех этажах затянуты непрозрачным полиэтиленом, пол вскрыт, зияет большими клетками-колодцами. Замкнутая нелюдимая среда. Двери по бокам распахиваются, за ними льется теплый свет, где-то в отдалении плещет музыка. В зал не входит — врезается танцующая пара, слитая в каждом движении. Гамлет и Гертруда. Главные герои спектакля, впервые равные значением: так решил Лев Додин. Гертруда — Ксения Раппопорт. Гамлет — Данила Козловский.
Их первый диалог — о том, что разворачивается на глазах, и о том, что скрыто.
Спектакль называется сочинением для сцены по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру и Борису Пастернаку.
Грамматик — датский летописец, в чьей хронике «Деяния данов» упомянут Гамлет; Холиншед — летописец английский, из чьих хроник щедро заимствовал Шекспир. В ткань спектакля вживлена история, не преображенная художественно. Текст, казалось, хорошо известный, временами неузнаваем. Взгляд Додина на пьесу устанавливает в ней новые причинно-следственные связи, заново истолковывает характеры, отскребает привычное в трактовках. Додин прослаивает знакомые реплики незнакомыми, слова одного персонажа передает другому.
Она молодая, притягательная, резко-определенная. И слушая королеву, мы узнаем, что отец Гамлета, монарх, которого по умолчанию принято считать добрым и справедливым государем, был кровавый жестокий тиран, при котором про датчан говорили: наглецы и свиньи. А его младший брат Клавдий, теперешний король, скорее реформатор, и от него ожидают «чтоб ты проветрил наш кабаний угол!»; Гертруда бросает это страстно и убежденно; тут не эмоции, политический проект.
Роман королевы и брата короля, похоже, начался еще при его жизни: влечение висит, уплотняясь, в воздухе между ними. Их сцены — свидания любовников-сообщников: Клавдий (Игорь Черневич) насторожен, Гертруда не скрывает внутренней дрожи, и вдруг совсем не по-матерински скажет о сыне: «…он весь в отца и очень хитер!» Оба начеку: в стране только начались преобразования, но сын и пасынок, вернувшись из Виттенберга, становится главным препятствием. Задает вопросы, слышит какого-то призрака. Развитие событий — растущее страшное отчуждение матери и сына.
…Гамлет, действительно, весь в отца, его повторение. Соль концепции — в афише спектакля, рассеченной на две части: лицо молодое и то же лицо, постаревшее на три десятка лет, принц и король. И сын, двойник отца, в обратном резком свете утраты ищет новую цену себе, своим связям, реальности. Он говорит с голосом, звучащим внутри, а не с бестелесным духом извне. В черных джинсах и ветровке с капюшоном, стремительный, беспафосный, он нянчит свое острое беспокойство, обращая его в сухую ярость.
Еще много раз во время спектакля распахнутся двери по бокам зала, плеснет за ними теплый свет, дивная музыка, иная жизнь. Инобытие, проекция мечты… Потом двери захлопываются — и мы остаемся в темном герметичном полупогребе, где за пластиковыми занавесками слышны шаги…
Три старых актера, неспешно возникающие перед Гамлетом, одновременно и стражи, и друзья, и те, кому режиссер передает ключевые монологи ключевых персонажей. Игорь Иванов, Сергей Курышев, Сергей Козырев — старшее поколение и фундамент труппы. Они играют свой спектакль в спектакле обаятельно: глумливо, отважно, мастерски. Принц в их протянутые руки положит свитки с текстом, который он для них написал. Гамлет и Клавдий, Офелия (Елизавета Боярская) и Гертруда сядут в кресла первого ряда: перед ними на сцене пойдет представление. И прямо Клавдию в лицо, оплывшее, многоопытное, актер бросит его слова: «Со мною всё, за что я убивал, — моя корона, край и королева!»
Но Клавдий не дрогнет, не будет криков, удушья, лишь молча выйдет. А Гертруда обхватит себя за плечи, сгорбится, раскачиваясь, покажется на миг старухой.
Роль Офелии сокращена, но выстроена очень определенно. Пока идут переговоры с актерами, Офелия ждет, прижимается, пытаясь отвлечь, не удается: принц поглощен иной задачей. Тогда она устремляется прочь, нетерпеливо прищелкивая пальцами. Времени нет! И через минуту в руки Гамлета откуда-то из-за пластика швыряют что-то розовое, кружевное. Он оглядывается и ныряет внутрь, за пелены. А потом они, полуодетые, поднимаются снизу, из подземелья, она, еще поблёскивающая от любовной испарины, он — уже сосредоточенный и отрешенный.
…Полоний (Станислав Никольский) тут не отец — брат Офелии: сама прилизанная, на все готовая преданность. Гамлет убьет его страшно: за занавесом, зверские тупые содрогания, и тело, уже запеленутое, вниз головой полетит в подземелье. Гертруда, еще не зная, кто убит, подломится на красных лаковых каблуках, воя, на коленях поползет к краю разверстого пола, заглянет вниз, захохочет-зарыдает: не Клавдий!
Ксения Раппопорт в своей Гертруде играет и Гонерилью, и леди Макбет; на все обвинения она бросит сыну: «Не твоё дело!» Но он сам стал ее делом: сначала убийство Полония, потом рассказ о том, как со зловещей находчивостью принц по дороге в Англию послал на смерть всех спутников. Не сын — противник, как его отец, виновник ее и государства бед. Она делает выбор, произносит слова Клавдия: «Избавимся от этого огня! Пока он жив, нет жизни для меня»!
Фраза — черта. Гертруда и Клавдий в приступе вожделения, сдирают с себя одежду, и так, в исподнем, кинутся вверх по лестнице то ли за призраком, то ли за потерявшей рассудок Офелией: опять дикие содрогания за занавесом, и запеленатую, как куклу, потащат, скинут сверху.
После каждого убийства с грохотом тысяч ног выходят ражие молодцы и закрывают плитами часть разверстой сцены: ровняют могилу с поверхностью.
…В финале Гамлет срывает одну за другой пластиковые плёнки, за ними трехъярусные голые леса: жесткий костяк, скелет жизни. Оставшись втроем, Клавдий, Гамлет и Гертруда медлят в пустоте. «Мы все в крови!» — с мрачным торжеством скажет Гамлет. «И я!» — отзовется Гертруда. «И я!» — повторит Клавдий. Декларативные светлые идеи («чтоб дать развиться краю») разрушены темной энергией общих преступлений. Королева признается: она отравила ненавистного мужа. Подносит флягу к губам, спрыгивает в подземелье. Остаток выпивает Клавдий. Гамлет, вместо матери, обнимет свою флейту, станцует с ней, отчаянно, издевательски — и спрыгнет сам.
Здесь обвиняют всех, но Гамлета и Гертруду сильнее прочих. Зло множит зло, кровь притягивает кровь, и они сознательно выбирают это.
За всю постановочную историю пьесы принца датского превращали и в подонка, и в убийцу, и в падшего ангела, и в философа. В этом спектакле он фанатично заблуждающийся, кровавый моралист.
И вот в финале еще раз распахиваются двери — и огромный экран-аквариум с говорящей головой Фортинбраса (костюм, галстук, полная безликость) — проезжает мимо зала, бормоча штатную демагогию: «…ответственность беру я на себя»; новый правитель, старый режим. Как в финале «Коварства и любви», режиссер здесь жестко сцепляет вневременную материю пьесы с гниющим веществом современности.
Додин не страшится безнадежных диагнозов, не боится вглядываться в бездны, лицом к лицу стоять с неприглядными истинами. Но раньше в его спектаклях присутствовал восходящий мотив надежды. Сама поэзия решений давала ее. Здесь нет.
Нет впервые и тени сострадания. Ни к кому. Постановщик намеренно и жестко разрушает любые иллюзии зала.
Что ж, чту замысел, принимаю посыл, уважаю безмерно труд мастера. Но не хочу соглашаться! И да, мне жаль всего того невесомо-неподъемного объема смысла, тех сомнений, терзающих вопросов, рефлексии и поисков ответа, того истового испытания всего на прочность, той высшего порядка отвлеченности, страсти и муки познавать, того скепсиса и горечи мысли, без которых нет «Гамлета». Который воплощал человечность в ее силе и славе. Который был обещан не только минувшим четырем векам — всем грядущим.
Но, быть может, мне просто жаль той жизни, в которой этого Гамлета уже нет.
Накануне премьеры Жолдаку пришлось значительно сократить свой спектакль (теперь он идет около четырех часов), сменить название: не «Три сестры», а «По ту сторону занавеса» (сегодня кто только не заигрывает с миром закулисья и потусторонностью). А еще решено было посадить зрителей на сцену, чтобы актеры играли на фоне зала Росси – пространства, что и говорить, сакрального.
В сравнении с Треплевым экспериментатор-провокатор Жолдак поступает менее радикально: переносит действие лишь на две тысячи лет вперед. Спектакль начинается как космическая эпопея. Некто в 41-м веке вызывает чеховских трех сестер из небытия, реанимируя их память. В этом можно усмотреть улыбку в сторону исканий самой Александринки, где уже не один год стремятся скрестить великие традиции с новейшими технологиями.
В предыдущем петербургском спектакле Жолдака Zholdak dreams (БДТ) речь идет об астронавтах, услышавших музыку с «темной стороны Луны». Ставя «Трех сестер», режиссер попытался вслушаться в то, что происходит «по ту сторону» пьесы. Принцип, по которому сочиняется действие, напоминает о другой пьесе – «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Стоппарда, где зритель оказывается как бы на задворках «Гамлета». Известные события вытеснены на периферию, а публике предложено вообразить то, что у Шекспира (читай у Чехова) осталось «за кадром».
С кинокадров (из «Соляриса») и начинается этот спектакль, пронизанный киноцитатами: на экране, который висит над подмостками, – водоросли, колышущиеся под водой. Память о Тарковском пробуждают космичные видеопейзажи Даниэля Жолдака (он же вместе с режиссером разделил функцию сценографа). Реинкарнированные сестры, прилетевшие на Землю на космическом корабле, возникают на фоне то океана, то огромной луны, то лесной стихии – будто из «Зеркала». Связь с Тарковским не только в цитатах и аллюзиях, она и в способе построения действия. Жолдак зарифмовывает разные сюжетные линии, зеркально отражает одних персонажей в других.
Здесь возможны метафизические встречи, которые не произошли бы, будь пьеса поставлена «реалистически». Вот один из старогвардейцев Александринки Семен Сытник в роли Чебутыкина признается героиням, что любил их мать. И возникает она, красивая молодая женщина, и зовет его, Ваню...
Другой александринский корифей Игорь Волков играет как Вершинина, так и отца трех сестер – по той же причине, по какой, скажем, Маргарита Терехова в «Зеркале» предстает и матерью главного героя (в его воспоминаниях), и его женой (в настоящем времени). Другое дело, что у Жолдака закономерности межчеловеческих отношений показаны куда более радикально и при этом однозначно. Машу (Елена Вожакина) режиссер наделяет комплексом, сочинив флэшбек, намекающий на ее инцестуальную связь с отцом – этаким тиранчиком в бумажной короне. Это объясняет, почему в условном настоящем времени Маша, с одной стороны, столь привязана к стареющему и лысеющему простаку Вершинину, а с другой – зависима от мужа, домашнего тиранчика Кулыгина.
То недоговоренное, что у Чехова представляет собой «подводное течение», Жолдак словно высвечивает прожектором и выставляет в гротескном, эксцентрическом ключе, недаром Виталий Коваленко в одном из эпизодов надевает клоунские рыжую бороду и нос. Коваленко удается в броском рисунке роли сплавить в Кулыгине лиричность и садизм, отчаяние и бессилие. Вот Кулыгин кормит жену с ложечки, издевательски приговаривая: «Маша любит кашу». Позже, явившись домой не вовремя, он нарочно шумит дрелью, не решаясь застать любовников врасплох; но через мгновение (невеликодушный рогоносец!) высвобождает обиду, насилуя Машу на пороге дома.
Елене Калининой отданы роли Ольги и Наташи, которая, как сообщают титры, поразительно на нее похожа. Понятно, почему Андрей Прозоров – Степан Балакшин вдруг тянется к сестре с поцелуем: одна героиня на мгновение проступает в другой. Актриса играет две ипостаси женской натуры. В сцене в гимназии, где Ольга учит сестер, она произносит как будто средневековый текст – о ландышах, вырастающих из слез Божией Матери. И тут «проговаривается» одиночество Ольги, стародевичья мечтательность, не сложившаяся женская судьба. И та же Калинина – распутница Наташа, которая в предвкушении ночного свидания с Протопоповым выхаживает по сцене чудом в перьях, одетая точно из оперы «Королева индейцев», и буквально воет на луну. Да, людьми двигают не только детские травмы в пресловутом фрейдистском понимании, но и силы природные, «приливы и отливы».
Жолдак не впервые «прививает» спектаклю космическую тему, задающую правила игры, другой вопрос, как потом эта игра развивается. В его «Мадам Бовари» «пролог на небесах» комичен и непритязателен; но действие переносится на землю – и зритель сопричастен страстям заглавной героини, сострадает ей. В Zholdak dreams, спектакле выхолощенного формотворчества, где персонажи сплошь фантомы и сущности, зрительское соучастие возможно в той мере, в какой оно возможно в компьютерной «стрелялке». «По ту сторону занавеса» предлагает промежуточный вариант: фантомы памяти постепенно обретают плоть и кровь, проявляясь как живые люди и в итоге воздействуя на зрителей традиционно – драматизмом человеческих отношений.
Но вот вопрос. Если пролог о возвращенной памяти и реинкарнации брошен и не развивается, а спектакль представляет собой импровизации поверх пьесы (но импровизации уже закрепленные), так ли уж содержательна вся эта «космическая операция»?
В некоторые моменты спектакль начинает дышать красотой и поэзией, но иногда он невыносимо затянут и монотонен. Что-то из придуманного режиссером «поверх» Чехова остроумно и театрально, а что-то претенциозно и неубедительно. Вряд ли понимание мужского соперничества как латентного желания обладать соперником дает такой уж сущностный взгляд на любовный треугольник Ирина (Олеся Соколова) – Тузенбах (Иван Ефремов) – Соленый (Владислав Шинкарев). В сцене предполагаемой дуэли (у Жолдака это происходит в прозрачной барокамере) кошачье-томный Соленый приспускает с «простого хорошего парня» Тузенбаха штаны и... весьма своеобычно мстит. Бедный Тузенбах!
Это очень неровный спектакль.
В финале трех сестер, одну за другой, сражают выстрелами. Кто и почему? Если бы знать, если бы знать...
Никита Михалков все-таки успел на премьеру к брату, но только ко второму акту и потому не смог насладиться красотой и легкостью первого. И потому, наверное, удивился финалу: Фирс в заколоченном господском доме, вопреки первоисточнику, оказался не один. Хотя этот «не один», а точнее, «не одна» появилась именно в первом акте. Кончаловский других вольностей себе не позволил в трактовке сюжета, характеров и взаимоотношений героев. Хотя самая первая сцена намекала на фривольности: в ожидании господ Дуняша (Александра Кузенкина) моет пол руками, нагло выставляя перед Лопахиным (Виталий Кищенко) аппетитный зад. И так повернется девица, и эдак — ноль внимания. Лишь в конце сцены, у зеркала, поправляя шейный платок, он так хлопнет ее по заду, что станут понятны их «закадровые» отношения. Но публика этого не видела и не увидит за все время сценического действия.
Один хлопок по заду, один поцелуй за весь спектакль — такое сегодня в искусстве, особенно театральном, представить сложно, и тем не менее… На другом сосредоточил свое внимание постановщик Кончаловский. Он попытался объемно посмотреть на Чехова и его последнюю в жизни работу. В театральных условиях желаемой объемности он добивается нарочито простыми, не кинематографическими средствами.
В каждом из актов опускается экран, по которому, как по бумаге, скрипя, бежит перо Антона Павловича — больного, по сути умирающего — и пишет разным своим корреспондентам (жене, художнику Коровину и другим), как продвигается пьеса, про кровохарканье, что мучает его во время написания комедии, про смерть, которая, в сущности, простая вещь… И эти простые рукописные, не высокотехнологичные комментарии действуют сильнее любых высоких технологий. Думаешь: какие силы были у умирающего человека, чтобы писать именно комедию? И почему комедию? Умирающий больше понимает в смерти?..
А на сцене, за поднявшимся экраном, открывается такая же простота, как на бумаге. Столик, шкафик, диван красного дерева эпохи царя Александра, стулья, высокое зеркало поодаль на фоне хорошо подсвеченного белого задника (отличная работа художника Сандро Сусси) смотрятся как экспонаты в музее. Готовая картинка усадебного быта помещичьей семьи начала прошлого века. А вот и господа из самого Парижа, которых ждали, намывая пол. Хрестоматийные, знакомые до боли, ну просто как родственники каждому более-менее грамотному россиянину: Раневская (Юлия Высоцкая), помещица, две ее дочки — трудяга Варя (Галина Боб) и стрекоза Аня (Юлия Хлынина). Дядя их, Леонид Андреевич (Александр Домогаров), гувернантка Шарлотта Ивановна (Лариса Кузнецова) со своими фокусами в прямом и переносном смысле да Яша (Владислав Боковин), лакейская наглая рожа. По авансцене на полусогнутых проходит Фирс (Антон Аносов), шамкая отвисшей челюстью. Не говоря уже о местных обитателях — старые знакомцы.
И текст, знакомый до боли, произносят: про торги, про Париж и телеграммы оттуда от негодяя, обобравшего Раневскую, а также про желтого в угол и что-то там в середину. Кончаловский каким-то невидимым образом так организовал жизнь этих людей из прошлого, что она магнетична, притягивает внимание. Хотя где они уже и где мы теперь?..
Конечно, тут вопрос — в умении работать с актерами, которые создают эту необъяснимую магнетичность, независимо от объема роли. Вот, скажем, Епиходов — не человек, а нелепая функция — у Александра Бобровского смешон не комедийными красками, а напыщенностью, которую так удачно подчеркивает грим: залихватские маленькие усики, несоразмерные с его крупной фигурой.
Гаев — пожалуй, лучшая роль Александра Домогарова, отработавшего у Кончаловского во всей трилогии. Внешне почему-то схож с артистом Качаловым (пенсне, мягкие манеры), но характер создан удивительно тонко, вальяжно и неспешно — как, собственно, и живет его персонаж. И верная интонация найдена (барская, нараспев), и жест. В этой роли для любого артиста есть свои нелюбимые подводные камни, умение обойти которые только подтверждает класс артиста. Таким камнем является монолог Гаева в первом акте, обращенный к шкафу: «О, многоуважаемый шкаф…» У Кончаловского Гаев произносит его, раскинув руки по спинке дивана и запрокинув голову, — это выглядит органично и смешно.
Роль Ани также невыигрышна — своей неестественной чистотой, пафосными текстами про новую жизнь… Юлия Хлынина, которая очень активно набирает очки в театре, замечательно справляется с этой ролью. Чего стоит одна сцена с Петей Трофимовым (Евгений Ратьков), который живописует перед девушкой прелести новой жизни.
— Смотрите, покойная мама идет по саду, — вдруг говорит Раневская. Фигура в белом, под белым же кружевным зонтиком проходит по заднику. Не посмотрев, не оглянувшись. Второй раз она появится на качелях — и тоже вполоборота, лица не видно. Она же окажется за столиком, накрытым к вечернему чаю, напротив Фирса в заколоченном доме. Метафора не только невозвратного, забытого, но и наглухо заколоченного прошлого — всех и все забыли. «Эх вы, недотепы…»
И, наконец, Юлия Высоцкая в роли Раневской. В роскошном светлом парике, красивом платье (удачно стилизованные костюмы Тамары Эшбы). Нервическая особа с первого своего появления: пахитоска в руке дрожит, слушает вполуха, формальна в отношениях и озабочена чем-то, но явно не продажей родового гнезда. Удивительно, но в ее игре мало настоящего, да и ей самой оно малоинтересно, здесь больше будущего. И, что удивительно, будущее это сыграно Высоцкой так умело и четко — ну, уедет в Париж, проживет там деньги от ярославской бабушки и своих дочерей, которые ей не очень-то интересны. Даже сын Гриша, который утонул здесь, тоже для нее досадный факт биографии, досаду которого она гримирует пафосным театральным криком: «Гриша, мальчик мой!..»
На роль Ермолая Лопахина приглашен ведущий актер Волковского театра из Ярославля Виталий Кищенко. Его образ, впрочем, как и все остальные, не тронут новейшими прочтениями (например, Ермолай Алексеевич не вступает в интимную связь с Раневской или не получает диплом Гарварда). Напротив, образец дельного человека в России, в финале ставшего тем, кем и был, — мужик мужиком.
В общем, извечный спор между традиционалистами и радикалами, обострившийся в последнее время до необычайности, Кончаловский разрешил просто — высокое качество, господа.
Зачем? В одном из писем Виктора Астафьева есть строки: «Я пишу книги о войне, чтобы показать людям, и, прежде всего, русским, что война – это чудовищное преступление против человека. И чем более наврёшь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую». Это и есть ответ: весьма болезненный для постановки, прошедшей 23 февраля, но, если разобраться, возможно, именно в этот день более всего своевременный.
Знакомые черты артистов Анны Синякиной, Натальи Горчаковой, Максима Маминова и Сергея Мелконяна трудно распознать за париками, очками-линзами, накладными животами и увеличивающими рост котурнами. Обращаясь к зрительному залу и отдельно к четырем пластиковым подросткам, их герои рассказывают-разыгрывают разнообразные составляющие мира «Евгения Онегина».
Что такое театр, куда любил ездить Евгений? На сцене – вырезанный из картонной коробки макет, куда, освещенный светом фонарика, спустится ангел. Откуда пошло выражение «так плохо, что тушите свет»? Зрители от досады задувают свечи в ближайших канделябрах. Что такое русская зима? Тут артисты вызывают из зала добровольцев, которые изображают шалуна с отмороженным пальчиком, камыши на озере, куда идет купаться гусь, мать, грозящую шалуну в окно… Ораторы путаются в ударениях, падежах и склонениях: «пИсал» Пушкин снег или все-таки «описывал»?
Но, не сбавляя напора просветительского азарта, все больше воспаряя в гибельные выси, четверо отважных пушкинолюбов рассуждают об отличиях аглицкого сплина от русской хандры, демонстрируя целый чемоданчик предметов, к которым охладел Онегин: «прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов и для ногтей, и для зубов»…
Темы усложняются. И вот представительница общества любителей Пушкина из Тулузы (Анна Синякина) снимает стриженный седой парик, слезает с котурн. И вот маленькая и гибкая Таня Ларина кричит «бонжур» пришедшей к ней толпе деревенских баб и мужиков (во главе пестрой вереницы монтировщиков и осветителей театра – сам режиссер-постановщик Дмитрий Крымов в шапке пирожком). А потом сочиняет главное письмо русской литературы, перекидывая перо из пальцев одной босой ноги в пальцы другой. Перья множатся. И юная мечтательница уже пишет руками и ногами… Няня (поразительный Сергей Мелконян с шарфиком на голове и сползающими накладными грудями) бегает по лестнице, безрезультатно открывая и закрывая форточку… Самого Онегина на дне рождения Татьяны «сыграет» вызванный из зала парень, который, доставая из подарочного пакета гигантский пластиковый пистолет, нечаянно (так у Пушкина) убивает юношу-поэта Ленского (Максим Маминов).
В финале искусствоведы-любители выкатывают на авансцену станки с крутящимися лентами, чтобы показать, как зима сменяется весной, а весна – зимой. А люди очень редко умеют вовремя оглянуться и оценить прошедшее. Как порой самое важное остается под снегом, а мы не замечаем похороненные кусочки души.
Для детей надо работать как для взрослых, только еще лучше, как-то заметил известный детский писатель. …Лаборатория Дмитрия Крымова уверяют, что линия постановки детских спектаклей будет продолжена. В программке «Своими словами» нам обещают пересказать и «Мертвые души» Гоголя, и «Остров Сахалин» Чехова, и «Капитал» Маркса. А значит, Сретенка еще долго будет оставаться важной магистралью театральной Москвы.
Отношения Льва Толстого и Софьи Андреевны – сюжет, который приносит беспокойство драматургам, сценаристам не в первый раз. Снова потревожены образы старца из Ясной Поляны, его жены, его семьи. Литовский драматург Марюс Ивашкявичус написал пьесу «Русский роман», а Миндаугас Карбаускис поставил ее на основной сцене вверенного ему Театра Владимира Маяковского, призвав в союзники нашего мастера сценографии Сергея Бархина, который предельно освободил пространство от ненужной детализации и скупо обозначил точки действия.
На этот раз написана пьеса о Толстом без Толстого.
Свой ответ на разрыв, который случился в семье Толстых, дает Ивашкявичус.
Однако он пишет не вполне «биографическую» пьесу, задействовав в своей драматургии как реальных, так и вымышленных персонажей из русского романа Льва Толстого, прежде всего «Анны Карениной». В причудливой смысловой связи существуют в пьесе, больше похожей на киносценарий, образы художественные и реальные действующие лица. Русский роман в жизни оказывается не менее, а может быть, и более драматичным, чем русский роман гениального Толстого. В конце концов, не суть, что Каренина бросилась под поезд, а Софья Андреевна, пережив своего великого мужа, по сути, была им брошена и доживала свои дни в одиночестве и забвении. Каренина (Мириам Сехон) по версии Ивашкявичуса предпочла броситься под поезд, чтобы не стать свидетелем изжитой любви. Она не захотела пережить свою отверженность. Надо найти эти силы – уйти из жизни, любя, и остаться любимой. Толстая пыталась вернуть любовь, но чем больше она рвалась к супругу, тем более он удалялся от нее. Для Ивашкявичуса тут нет выхода: куда ни кинь – всюду клин.
Также рифмуется биография и вымысел в сюжете с дневниками. В допросе Кити (Вера Панфилова), который она устраивает Левину (Алексей Дякин) по прочтении его исповеди, легко угадываются переживания самой Софьи Андреевны. Известно, что и молодая жена Толстого не могла спокойно пережить откровения дневника своего мужа. Это знание интимной стороны жизни не помогает браку, а становится причиной, зародышем будущих несчастий. Одна из самых тяжелых невыносимостей для мужчины – контроль не только за его жизнью, но и подотчетность мужа в его нравственных поисках, духовном становлении. Кити не может справиться с женской обидой, доводит до истерики Левина, который готов сжечь свои признания. Но и этого не дает ему сделать жена. Тут Карбаускис решает сцену комически. Кити мечется по сцене, таскает столик, то запихивая, то доставая дневник из столешницы, и по-пионерски использует неосторожный посыл к откровенной ясности его прошлой жизни. Непрост этот выбор: остаться только женой, рожающей детей, оберегающей очаг, или стать идейной соратницей. Попытка Левина терпит крах, и вслед за персонажем Чехова можно сказать: жена есть жена.
С мужиками на покос Левин больше бежит от жены, нежели осуществляет осознанный выбор в духе нравственных исканий Руссо. В спектакле группа косарей, идущих в фарватере Левина, кричит на покосе про свое, Левин в остервенении – про свое. Как тут не вспомнить анекдот литературоведа Эйхенбаума, который в 20-е годы приехал в Ясную Поляну, чтобы собрать воспоминания мужиков о Толстом. Мужики мялись и на вопросы о Толстом не отвечали, а все больше про барыню хорошо говорили. Эйхенбаум отчаялся узнать что-либо. Наконец, мужики созрели и сказали одно: «Противный был мужик».
Режиссер и драматург не позволяют себе ни мелодраматической интерпретации, ни пошлого журнализма, на который провоцирует биография позднего Толстого. Ведь так легко поплясать на костях гения.
Совместить правду с деликатностью очень непросто. Это удается прежде всего благодаря Евгении Симоновой, играющей Софью Толстую. Актриса дождалась роли в родном театре. Ни разу она не позволила себе, играя нервную, неуравновешенную, даже истеричную женщину, впасть в болезненную неврастению, унизить свой персонаж мелкими трактовками в самых непростых сценах, как в схватке с Чертковым, в скандалах с дочерью. Напротив, Симонова играет Софью фигурой, в чем-то равной Толстому. Ведь она готова раньше него уйти и уходит из Ясной Поляны, она обращает свою молитву, чтобы вместе покинуть имение и в счастливом уединении доживать старость. Измученная женщина рисует эту пасторальную картину, когда вокруг нее сгущается ад.
Какая сильная сцена и режиссерски, и актерски, в которой она пытается пробиться к телу умирающего мужа, вокруг которого столпились железной непроницаемой стеной во главе с Чертковым – его играет актриса Татьяна Орлова, и играет точно, остроумно и беспощадно – идейные проходимцы. Толстой для них – предмет для будущих воспоминаний. Они не способны скорбеть, жалеть и оплакивать – они способны только использовать гения.
А что же дети? Любимый Левушка (Алексей Сергеев) увековечивает бессмертие отца за океаном, рассказывая о нем в паузах между выступлениями клоунов и эстрадных артистов.
Софья Андреевна читает письмо сына, полученное из Америки, доживая свой век наедине с собой.
Говоришь «Таня-Таня», и в ушах звенит: «Хорошо!» Оно не столько из пьесы Мухиной, из спектакля Фоменко, сколько из рецензии Марины Дмитревской, из всего нашего театроведческого детства. «Та-та-та-там» (фрагменты из театрально-критической поэмы «Хорошо»). В ушах щелкает: Петербург, Москва, Биберево, Щелыково, Фоменко, Туманов — хорошо!
Там, тогда, вчера, у них было хорошо, а сейчас чего же хорошего?
Затактом фестиваля «Помост», посвященного в этом году спектаклям о войне, то есть затактом войне на сцене, режиссер Денис Бокурадзе показал гостям «мирную» «Таню-Таню», показал выдуманный, театральный рай ‒ не тот, который мы потеряли, а тот, который нам только снится. И этот спектакль в контексте войн прошедших, настоящих и будущих оказался местом внутренней эмиграции, последним укрытием…
«Хорошо в Крыму!» ‒ доносится со сцены, и зал вздрагивает. «Хорошо в Америке!» ‒ и снова в публике шепот. Потому что слово «хорошо» заменило слово «война»: и в Крыму, и в Америке, и в Бибирево, и в каждой голове в зрительном зале и за его пределами поселилась война. А театр упрямо твердит: «Хорошо, хорошо, хорошо».
«Хорошо в Новокуйбышевске!» Так, наверное, могла когда-то сказать Эльвира Дульщикова, переехавшая сюда из Польши и создавшая при местном ДК театр-студию «Грань», то есть превратившая серый промышленный городок в театральную Аркадию. Так теперь ее ученик Денис Бокурадзе и шесть молодых актеров уже профессиональной «Грани» сами создают прекрасный город, с театром, где люди, в головах которых одни сплошные новости и сводки, научаются по-другому дышать, чувствовать, слышать слова, научаются видеть мир глазами влюбленного человека. Кто-то, уверена, скажет: плохо так отгораживаться от реальности. Но тут уже я буду твердить: «Хорошо».
На камерной сцене тетра «Грань» ‒ «кремовый мир». Палитра от бежевого до светло-коричневого и в одежде сцены, состоящей из бесконечных, кажется, занавесов, и в костюмах героев, то растворяющихся, то проявляющихся за этими занавесками выразительными тенями, то вдруг выпархивающих на маленький круглый подиум перед ними.
Спектакль Бокурадзе ‒ это странное лирическое дель арте, у каждого героя здесь свои лацци, свой выразительный пластический рисунок, и каждому отведено время на подиуме ‒ с акробатическим номером, с любовной арией. Шесть героев Мухиной влюблены, но пасьянс никак не складывается, и на подиуме они всегда одиноки, танцуют свои странные танцы, кричат признания в любви. Кажется, имена героев — это их амплуа-маски: Девушка, Мальчик, Иванов, Охлобыстин, Зина. Денис Бокурадзе в своей актерской ипостаси актер характерный, эксцентричный, всегда пластически острый. Режиссер Бокурадзе сообщает каждому образу предельную пластическую и ритмическую выразительность.
Вот Девушка, она же вторая Таня (Любовь Тювилина): гетры, короткая юбка воланами, прыгающая походка, волосы на одну сторону закрывают пол-лица, вся сделана из углов — локти-углы, колени-углы, угол волос разрезает лицо. Мы видим их с Ивановым (Сергей Поздняков) танцующими, видим, как его нелепый танец на мгновение совпадает с ее танцем — Иванову вдруг понадобилась Девушка, ненадолго. А сам Иванов — вялый знак вопроса, неуклюжий Пьеро — полюбился Девушке почти насовсем, как минимум на весь спектакль. Так и будут следовать за ним эти колени и эти глаза — тоскливые, собачьи. А за ней всюду Мальчик (Александр Овчинников), такой же, как она, ритмичный, прыгучий. Под мышкой у него футбольный мяч, а даже если и нет меча, рука отставлена — будто мяч есть. Другая его рука (молчит ли он или объясняется в любви) «читает рэп», а от рэп-ритмичного движения раскачивается все тело. Тело постоянно читает рэп…
А Зина (Алина Костюк) и Охлобыстин (Даниил Богомолов) летают, как весенние птицы — то он за ней, то она за ним. Не мешает этому полету даже неподдельный гипс на руке Алины Костюк. С Зиной, Зиночкой Охлобыстин фат, повеса, ловелас, а вот с Таней (Юлия Бокурадзе), с той самой Таней, вокруг которой всё и все вертятся в спектакле, он готов быть героем драматическим.
Таня всем нужна и Таня для всех невозможна. Среди этих прыгающих и порхающих она — статичная мать-земля, голос ее низкий, грудной, спокойный, взгляд мягкий, задумчивый. Но потом все так перемешается, что завибрирует и она, и Таня станет наливать в рюмку и выпивать крепкий алкоголь, Таня станет уходить от Иванова к Охлобыстину. А безответно влюбленный Мальчик решит жениться на оставленной Охлобыстиным Зине, на Зине, похожей на воробушка со сломанным крылом, но одновременно Мальчик будет обливаться слезами, и это тоже будут как будто его заготовленные лацци. И Иванов будет обливаться слезами, и Охлобыстин, и будут они пить и плакать, и в этот момент придет Дядя Ваня (Денис Бокурадзе). В накладных усах. Он станет вертеть во все стороны озорным глазом. А впрочем, сюжет ведь уже давно неважен, зритель и герои уже задышали в одном ритме и забыли в этих кремовых занавесках обо всем на свете. Они вместе с героями спектакля готовы упиваться слезами своими и любовными страданиями, которые всегда бенефис в отсутствии подходящего визави, всегда театр одного актера на маленьком подиуме в контровом свете. На этом подиуме ты всегда молод и прекрасен, ты немного чеховский персонаж, немного цирковой акробат, и даже если за стенами бьет набат, будешь упрямо твердить: хорошо в Крыму! хорошо в Биберево! хорошо в Америке!